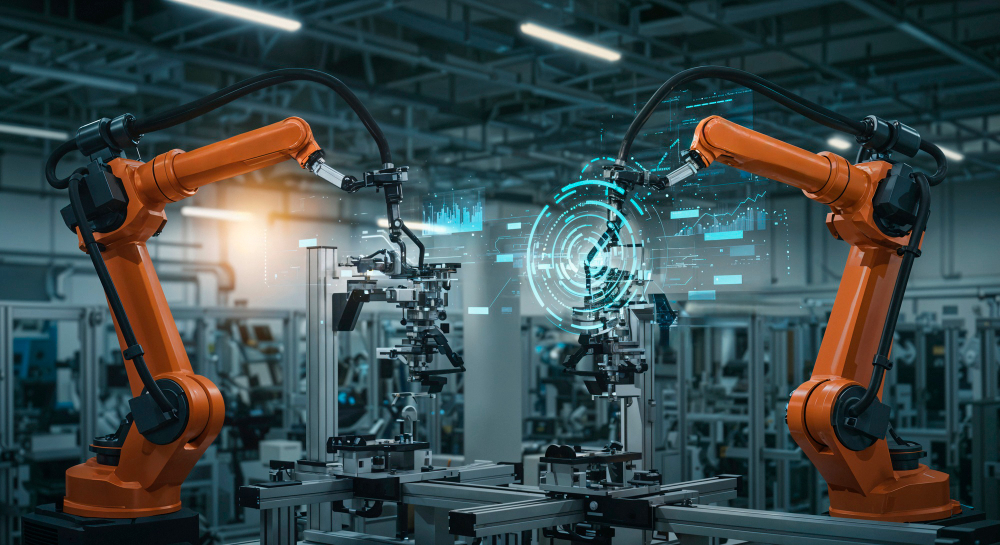В условиях динамичных социально-экономических изменений и цифровизации традиционные методы управления государственными проектами в России сталкиваются с вызовами оперативности и адаптивности. В ответ на это все чаще звучат призывы к внедрению Agile -подход к управлению проектами, который фокусирует внимание на гибкости, итеративности и тесном взаимодействии между компаниями и заказчиками -методологий, доказавших свою эффективность в коммерческом секторе. Agile-методология — это гибкий подход к разработке программного обеспечения и управлению проектами, основанный на адаптивном планировании, постоянной обратной связи и быстрой реакции на изменения. Такой подход особенно важен в практике российской государственной гражданской службы.
Актуальность темы не вызывает сомнений- ожидания общества и бизнеса к скорости, качеству и удобству государственных услуг растут, а бюрократические процедуры часто остаются инертными. Ключевая проблема заключается в фундаментальном противоречии между итеративной, гибкой природой Agile (Scrum, Kanban и др.), требующей быстрой обратной связи и адаптации, и жесткими рамками государственного управления. Scrum («Скрам») - гибкий подход к управлению проектами из семейства Agile. Главная идея — постоянное взаимодействие и пошаговая, итеративная работа над продуктом. Весь объём работы делится на короткие циклы - спринты (обычно 1–4 недели). В конце каждого спринта команда показывает, что получилось, и получает обратную связь. Kanban (с японского — «карточка» или «сигнал») — методология управления проектами, основанная на принципе разделения объёма работы на конкретные задачи. Изначально метод зародился в производственной системе Toyota в 1950-х годах. Инженер Тайити Оно разработал систему карточек, чтобы синхронизировать этапы производства и избежать перевыпуска. Цель данной методологии- визуализировать рабочий процесс, контролировать движение задач, избегать перегрузок и быстро выявлять узкие места. Эти рамки включают детально регламентированное бюджетное планирование (пример- Федеральные законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ о контрактной системе), строгие требования к отчетности, вертикальность принятия решений и высокую степень формализации процессов. Декларативная поддержка «гибкости» на высшем уровне (например, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика») пока не привела к массовому и глубокому внедрению этих практик в рутинную работу государственных органов.
Анализируя практики внедрения Agile в федеральных и региональных органах власти России, а также- на международном уровне, можно сделать вывод о том, что применение гибких методов носит преимущественно точечный и пилотный характер и часто ограничивается сферой IT и разработкой цифровых сервисов. Основными ограничениями являются:
1. Нормативно-правовые барьеры. Действующее бюджетное и контрактное законодательство не рассчитано на итеративность и гибкое перераспределение ресурсов между этапами проекта, требуя фиксированных ТЗ и смет на начальной стадии.
2. Организационная культура и управленческие практики. Преобладание иерархических структур, страх ответственности за риски, неготовность делегировать полномочия на нижние уровни и недостаток доверия к самоорганизующимся командам.
3. Дефицит компетенций. Нехватка государственных служащих, обладающих не только знаниями Agile-методов (Scrum-мастер, Product Owner), но и пониманием их адаптации к специфике государственного сектора. Product Owner (PO) или «владелец продукта» -это менеджер, который связывает бизнес с командой разработки. Он определяет, каким будет продукт, как его развивать и какую ценность он представляет для целевой аудитории.
4. Сложность измерения результативности. Трудности согласования гибких KPI с традиционными показателями эффективности госпрограмм.
Рекомендации по повышению эффективности государственной службы направлены на преодоление барьеров, связанных, во-первых, с разработкой адаптированных стандартов- созданием российских методик «GovAgile» и «ГосГибко», интегрирующих принципы Agile в существующее госрегулирование, с четкими гайдлайнами для разных типов проектов. Во-вторых, необходима точечная либерализация законодательства- внесение целевых поправок в 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также в Бюджетный кодекс, позволяющих использовать гибкие контракты и итеративное финансирование для определенных категорий проектов (например, цифровых продуктов, соцуслуг с высокой неопределенностью). В-третьих, важной составляющей повышения эффективности является системное обучение и кадровая работа, предусматривающее внедрение программ повышения квалификации не только для проектных менеджеров, но и для руководителей высшего звена и сотрудников контролирующих органов, фокусируясь на управлении по результатам и принятии решений в условиях неопределенности. Формирование пула внутренних Agile-коучей в госорганах. В-четвертых, необходимо пилотирование и обмен опытом с помощью создания экспериментальных площадок (например, в рамках «регуляторных песочниц») для отработки гибких подходов на конкретных проектах с последующим масштабированием успешных кейсов и созданием базы знаний. Наконец, важная составляющая эффективности управления- развитие культуры доверия и ответственности с помощью постепенного изменения управленческой культуры в сторону большей горизонтальности коммуникаций, поощрения инициативы и ответственного экспериментирования в рамках установленных целей.
Agile – это не панацея и не просто набор техник. Это, прежде всего, философия управления, требующая изменения мышления и готовности к диалогу. Потенциал для повышения эффективности и скорости реакции государства есть, но его реализация требует взвешенного подхода, учитывающего уникальные условия госслужбы. Успешное внедрение возможно лишь как эволюционный процесс, сочетающий гибкость с необходимой подотчетностью.
Валерий Комов,
доцент кафедры Государственного и муниципального управления
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации